Тайна игры мужского и женского, притяжения и
отталкивания, влечения и страха, соревнования, любви и страсти. Желание слиться, стать Единым. Я пыталась разгадать эту тайну тайн, у которой нет разгадки. Нашла ли я ответ на свои вопросы? И да, и нет. Те, что нашла я изложила в этой книге
отталкивания, влечения и страха, соревнования, любви и страсти. Желание слиться, стать Единым. Я пыталась разгадать эту тайну тайн, у которой нет разгадки. Нашла ли я ответ на свои вопросы? И да, и нет. Те, что нашла я изложила в этой книге
Молитва о любви
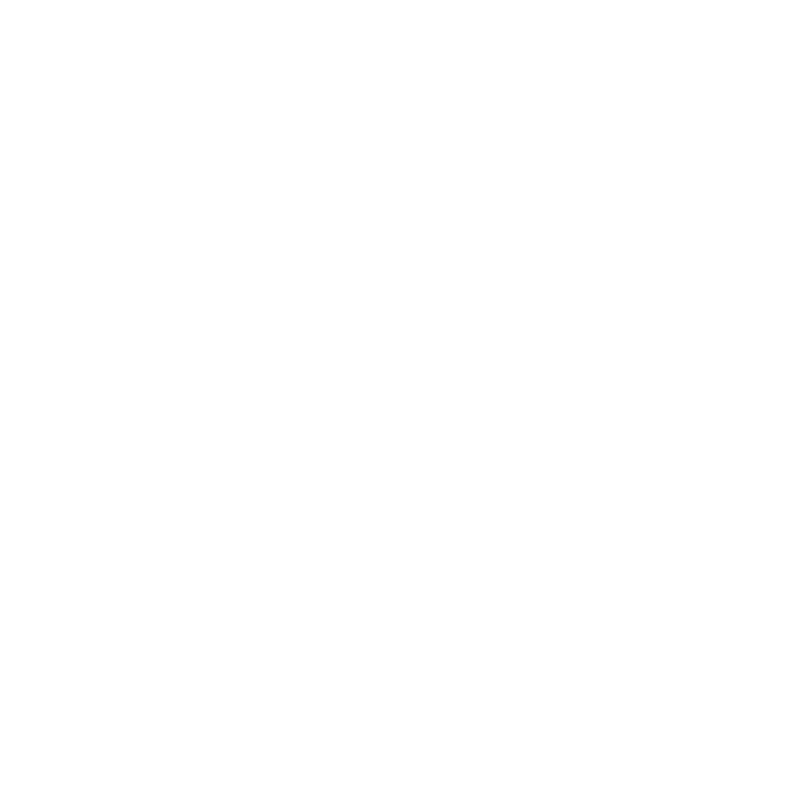
Я никогда не планировала стать писательницей. Покупая книги в Белых Облаках или в «Доме книге» на Тверской, я не могла даже помыслить, что когда-нибудь на этих священных для меня полках будет стоять моя книга «Молитва о любви».
Я никогда не предполагала, что записные книжки, тайные подруги моих странствий по миру и душе, будут напечатаны и встретят невероятный отклик от читателей. Меня буквально заваливали сообщениями со словами благодарности, писали что эта книга живая, что она несет тепло и свет, что в ней есть музыка. И каждая в ней находила свою историю и ответы на самые сокровенные вопросы, и вдруг становилось легко.
Эта книга — послание к моей любимой внучке Еве и ко всем, кому посчастливилось родиться женщиной.
Я никогда не предполагала, что записные книжки, тайные подруги моих странствий по миру и душе, будут напечатаны и встретят невероятный отклик от читателей. Меня буквально заваливали сообщениями со словами благодарности, писали что эта книга живая, что она несет тепло и свет, что в ней есть музыка. И каждая в ней находила свою историю и ответы на самые сокровенные вопросы, и вдруг становилось легко.
Эта книга — послание к моей любимой внучке Еве и ко всем, кому посчастливилось родиться женщиной.
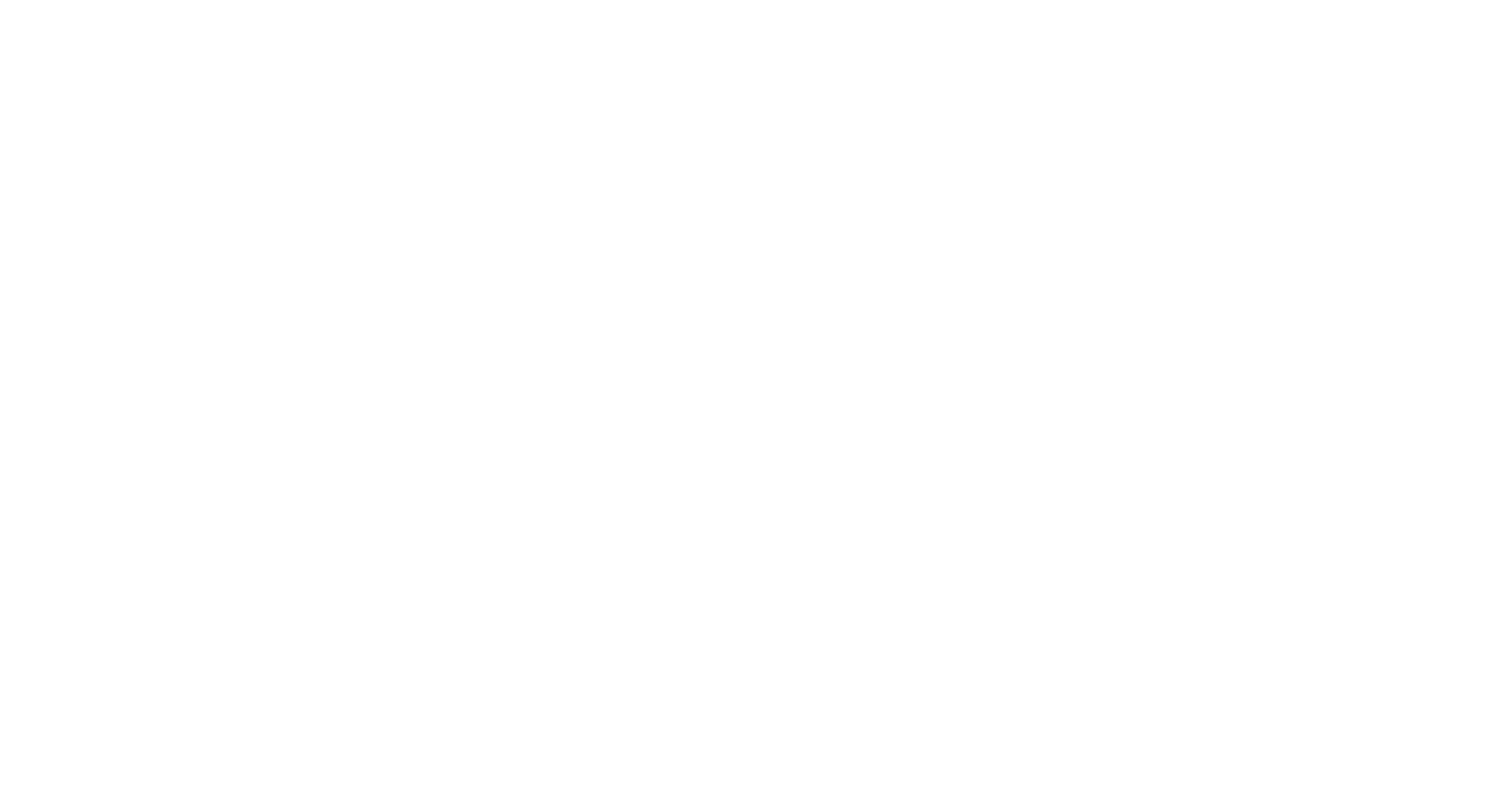
эпизод из книги «Египет»
Мы ехали на джипе внутри синей восточной ночи. Пустыню окутывала тишина. Городские фонари превращались в маленькие искорки, оставаясь позади, и вскоре совсем исчезли. Полная луна освещала наш путь. Посреди пустыни вокруг костра на домотканых дорожках сидели бедуины в белых одеждах. Один из них играл на дарбуках. Другие — слушали. Мы молча присоединились. Ничто не нарушало тишины, кроме звука барабана. Мужчины передавали по кругу скрученную сигарету и вдыхали дым. Омар обнял ее своими губами, втянул воздух и протянул мне. Я сделала глубокий вдох, подражая мужчинам, и почувствовала, как растворилась, словно кусочек сахара в стакане с кипятком. Меня не было. Было небо. Пустыня была. Была музыка. А меня — не было.
Омар повернулся ко мне — женщине, которой не было, — и запел: «Кто ты, пришедшая в мою жизнь? Может, ты сестра моя, может, ты жена моя, может быть, случайная знакомая, может, ты долгожданная любовь, душа моя? Кто бы ты ни была, я открываю для тебя свое сердце. Войди, но не бери его с собой. Оно необходимо мне, чтобы любить тебя». Музыка лилась как вино. Вечность пронизывала каждое мгновение. Мы ушли вглубь пустыни навстречу рассвету молиться любви — каждый на своем языке.
Омар повернулся ко мне — женщине, которой не было, — и запел: «Кто ты, пришедшая в мою жизнь? Может, ты сестра моя, может, ты жена моя, может быть, случайная знакомая, может, ты долгожданная любовь, душа моя? Кто бы ты ни была, я открываю для тебя свое сердце. Войди, но не бери его с собой. Оно необходимо мне, чтобы любить тебя». Музыка лилась как вино. Вечность пронизывала каждое мгновение. Мы ушли вглубь пустыни навстречу рассвету молиться любви — каждый на своем языке.
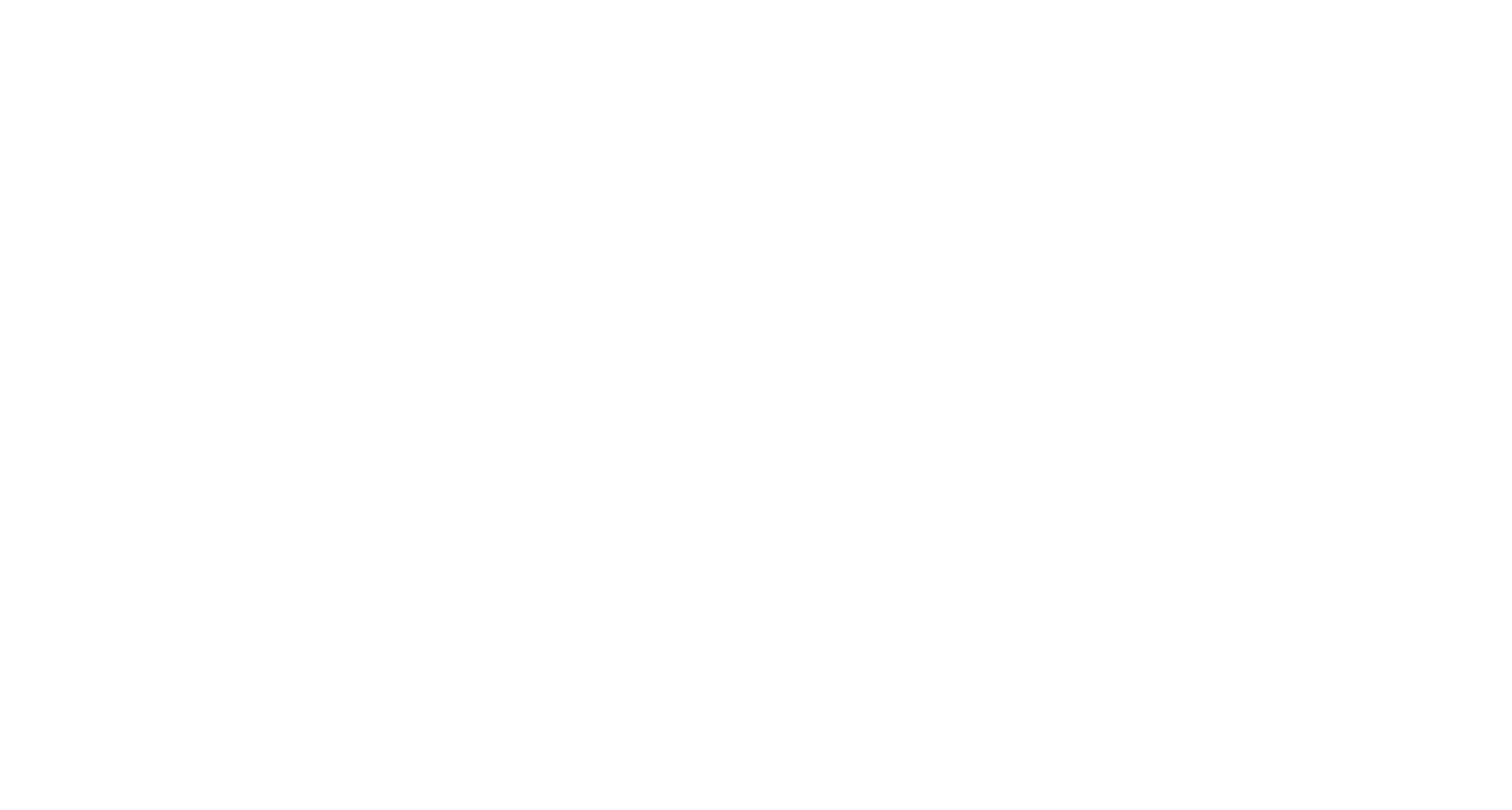
эпизод из книги «Художник»
Утром, когда просыпаюсь и открываю глаза, я вижу, как луч света, пробивающийся в окно моей спальни, касается картины в золотистой раме. На холсте сквозь туманную, серо-розовую дымку виднеется величественная гора Ай-Петри. Тут и там разбросаны игрушечные белые домики с красно-коричневыми крышами и голубыми тенями. Фиолетовые кипарисы пронзают небо. На переднем плане безудержной бело-розовой радостью цветет персик. И запах крымской весны наполняет мою комнату, вновь пробуждая воспоминания.
Март. Перрон Курского вокзала. Редкие пассажиры: кому охота в Крым ехать в марте? Еще холодно. Разве только тем, кто понимает красоту набухшей почки и дрожащей на ней дождевой капли (мир вверх ногами), опускающихся с небес на сонные поселки весенних туманов...
В Москве в марте ко мне подкрадывается депрессия. Уже пора природе просыпаться — но нет: промозглый ветер, дождь со снегом, слякоть. Все. Больше не могу. Двадцать один час дороги — и можно спрыгнуть со ступеньки вагона, подставить лицо весеннему солнышку, вдохнуть воздух родного города.
«Уважаемые пассажиры! Начинается посадка на скорый поезд Москва — Симферополь...» Ожидающие неторопливо подходили к своим вагонам. Проводники открывали двери и, привычным движением протирая перила, приглашали занять свои места.
Случайно мой взгляд упал на молодого мужчину с бородкой. На плече у него — этюдник. Я оторопела: это был Никита, потрясающий художник, мой сосед по московскому дворику. Пишет, словно кисть в душу макает.
Несколько месяцев назад я позировала ему... Мастерская была заставлена холстами, подрамниками, незаконченными работами и прекрасными этюдами. Пахло краской. Кисти стояли в стеклянных банках в ожидании. Все здесь дышало какой-то особенной жизнью божественного творения. Я сидела на высоком стуле и наблюдала за Никитой. А он, прищурив глаза, переводил взгляд то на меня, то на холст, то на палитру. Смотрел так, как будто хотел разгадать что-то сокровенное во мне и передать это холсту. Смотрел так, будто знал что-то, чего не знаю я.
Тишина. Ни слова. Только изредка: «Не меняй позу». «Голову чуть влево». «Вот так». Возможно, так же писал свою «Мону Лизу» великий Маэстро, вглядываясь, смешивая краски и перенося их на полотно, рождал Тайну Тайн. Время остановилось. Исчезло все, что когда-то существовало. Замкнутый круг. Вдох и выдох. Все и ничего.
...О великая непредсказуемость бытия! Мы оказались в одном купе полупустого вагона. Мы сидели вдвоем, крепко обнявшись, улетая в ночную тьму. За окном мелькали фонари. Никита гладил меня по волосам и рассказывал мне обо мне. Как он встретил южную птицу с золотым оперением на колючем февральском ветру. Как эта птица билась, стараясь взлететь. Как катила санки с маленькими дочками и стиральной машинкой по холодным московским улицам. Как он хотел помочь, укрыть от ветра. Как испугался, когда узнал, что срезала свое золотое оперение и теперь напоминала ласточку с острым клювиком и маленькой гладкой головкой. Он хотел, но не мог. У него были его любимые девочки — жена и дочь. Он был на месте. И все, что он мог, — это открыть в подъезде дверь, погрузить машинку в лифт и написать портрет. И теперь он обнимал меня и как будто утешал, успокаивал. И так, в полудреме, в полубодрствовании, оторванные от привычного мира, мы просидели до утра. И ничего больше не нужно было, потому что все, что нужно, уже было.
...И вот уже наступило мгновение, когда в окне вагона показался мостик через реку Салгир, а затем башенка с часами железнодорожного вокзала города Симферополя. Время, выделенное нам существованием, похоже, заканчивалось. Никита ехал в Ялту на этюды, я — домой к родителям. И вот уже брат быстрыми шагами догоняет вагон, как всегда опаздывая. «Что-то мне нехорошо, — сказал Никита. — Потрогай лоб». — «Да ты весь горишь!» И вместо Ялты Никита оказался в хрустящей белоснежной постели, в доме моих родителей. Может быть, вы помните, как белье сохнет во дворе на веревке и как оно пахнет, прихваченное за ночь морозом? И как становится твердым, так что не сложить, и ты несешь его в дом на вытянутых руках, уткнувшись носом и вдыхая запах свежести. Так было в доме моего детства. В доме моей свободы.
Никита горел и метался, тяжело вздыхая. Я сидела на краю постели, прикладывала к его лбу холодное полотенце, обтирала грудь и спину, чтобы сбить высокую, подбирающуюся к критической точке температуру. «Света, это, в конце концов, неприлично, ведь уже полночь», — шептала мама. Да, приличного в этом было мало. Это вообще не о приличиях. Никита пил аспирин и водку с перцем, пытаясь победить свалившую его с ног болезнь, и, кажется, задремал. Но я заснуть не могла. Вышла на веранду, открыла тяжелую чугунную дверцу котла, за которой бился огонь, подбросила дрова и стала любоваться его чудесным жарким красным, оранжевым, алым, по краям синим танцем. В соседней комнате проснулся Никита, и я услышала его приближающиеся шаги. Он вышел на веранду. Хотел закурить первую за сутки сигарету, но неожиданно бросил спички на подоконник, взял меня за плечи и поцеловал. Поцелуй был жаркий. Губы горели. Горел огонь в печи. Он целовал так страстно, что, казалось, хотел выпить божественный нектар, скрытый в женских губах. Он пил и не мог остановиться, и я давала ему эту влагу. Порывисто отодвинулся, закурил. «Пойдем, я буду тебя писать».
Натянул холст на подрамник, достал палитру, расчехлил кисти. Мазок за мазком, от движения к движению, чудесным образом стал проявляться портрет. Молодая женщина с золотой гривой волос на фоне красного ковра, кутающаяся в черную шаль, смотрела печальными, наполненными грустью глазами. «Кажется, я выздоровел», — сказал Никита, снимая портрет с мольберта.
Март. Перрон Курского вокзала. Редкие пассажиры: кому охота в Крым ехать в марте? Еще холодно. Разве только тем, кто понимает красоту набухшей почки и дрожащей на ней дождевой капли (мир вверх ногами), опускающихся с небес на сонные поселки весенних туманов...
В Москве в марте ко мне подкрадывается депрессия. Уже пора природе просыпаться — но нет: промозглый ветер, дождь со снегом, слякоть. Все. Больше не могу. Двадцать один час дороги — и можно спрыгнуть со ступеньки вагона, подставить лицо весеннему солнышку, вдохнуть воздух родного города.
«Уважаемые пассажиры! Начинается посадка на скорый поезд Москва — Симферополь...» Ожидающие неторопливо подходили к своим вагонам. Проводники открывали двери и, привычным движением протирая перила, приглашали занять свои места.
Случайно мой взгляд упал на молодого мужчину с бородкой. На плече у него — этюдник. Я оторопела: это был Никита, потрясающий художник, мой сосед по московскому дворику. Пишет, словно кисть в душу макает.
Несколько месяцев назад я позировала ему... Мастерская была заставлена холстами, подрамниками, незаконченными работами и прекрасными этюдами. Пахло краской. Кисти стояли в стеклянных банках в ожидании. Все здесь дышало какой-то особенной жизнью божественного творения. Я сидела на высоком стуле и наблюдала за Никитой. А он, прищурив глаза, переводил взгляд то на меня, то на холст, то на палитру. Смотрел так, как будто хотел разгадать что-то сокровенное во мне и передать это холсту. Смотрел так, будто знал что-то, чего не знаю я.
Тишина. Ни слова. Только изредка: «Не меняй позу». «Голову чуть влево». «Вот так». Возможно, так же писал свою «Мону Лизу» великий Маэстро, вглядываясь, смешивая краски и перенося их на полотно, рождал Тайну Тайн. Время остановилось. Исчезло все, что когда-то существовало. Замкнутый круг. Вдох и выдох. Все и ничего.
...О великая непредсказуемость бытия! Мы оказались в одном купе полупустого вагона. Мы сидели вдвоем, крепко обнявшись, улетая в ночную тьму. За окном мелькали фонари. Никита гладил меня по волосам и рассказывал мне обо мне. Как он встретил южную птицу с золотым оперением на колючем февральском ветру. Как эта птица билась, стараясь взлететь. Как катила санки с маленькими дочками и стиральной машинкой по холодным московским улицам. Как он хотел помочь, укрыть от ветра. Как испугался, когда узнал, что срезала свое золотое оперение и теперь напоминала ласточку с острым клювиком и маленькой гладкой головкой. Он хотел, но не мог. У него были его любимые девочки — жена и дочь. Он был на месте. И все, что он мог, — это открыть в подъезде дверь, погрузить машинку в лифт и написать портрет. И теперь он обнимал меня и как будто утешал, успокаивал. И так, в полудреме, в полубодрствовании, оторванные от привычного мира, мы просидели до утра. И ничего больше не нужно было, потому что все, что нужно, уже было.
...И вот уже наступило мгновение, когда в окне вагона показался мостик через реку Салгир, а затем башенка с часами железнодорожного вокзала города Симферополя. Время, выделенное нам существованием, похоже, заканчивалось. Никита ехал в Ялту на этюды, я — домой к родителям. И вот уже брат быстрыми шагами догоняет вагон, как всегда опаздывая. «Что-то мне нехорошо, — сказал Никита. — Потрогай лоб». — «Да ты весь горишь!» И вместо Ялты Никита оказался в хрустящей белоснежной постели, в доме моих родителей. Может быть, вы помните, как белье сохнет во дворе на веревке и как оно пахнет, прихваченное за ночь морозом? И как становится твердым, так что не сложить, и ты несешь его в дом на вытянутых руках, уткнувшись носом и вдыхая запах свежести. Так было в доме моего детства. В доме моей свободы.
Никита горел и метался, тяжело вздыхая. Я сидела на краю постели, прикладывала к его лбу холодное полотенце, обтирала грудь и спину, чтобы сбить высокую, подбирающуюся к критической точке температуру. «Света, это, в конце концов, неприлично, ведь уже полночь», — шептала мама. Да, приличного в этом было мало. Это вообще не о приличиях. Никита пил аспирин и водку с перцем, пытаясь победить свалившую его с ног болезнь, и, кажется, задремал. Но я заснуть не могла. Вышла на веранду, открыла тяжелую чугунную дверцу котла, за которой бился огонь, подбросила дрова и стала любоваться его чудесным жарким красным, оранжевым, алым, по краям синим танцем. В соседней комнате проснулся Никита, и я услышала его приближающиеся шаги. Он вышел на веранду. Хотел закурить первую за сутки сигарету, но неожиданно бросил спички на подоконник, взял меня за плечи и поцеловал. Поцелуй был жаркий. Губы горели. Горел огонь в печи. Он целовал так страстно, что, казалось, хотел выпить божественный нектар, скрытый в женских губах. Он пил и не мог остановиться, и я давала ему эту влагу. Порывисто отодвинулся, закурил. «Пойдем, я буду тебя писать».
Натянул холст на подрамник, достал палитру, расчехлил кисти. Мазок за мазком, от движения к движению, чудесным образом стал проявляться портрет. Молодая женщина с золотой гривой волос на фоне красного ковра, кутающаяся в черную шаль, смотрела печальными, наполненными грустью глазами. «Кажется, я выздоровел», — сказал Никита, снимая портрет с мольберта.
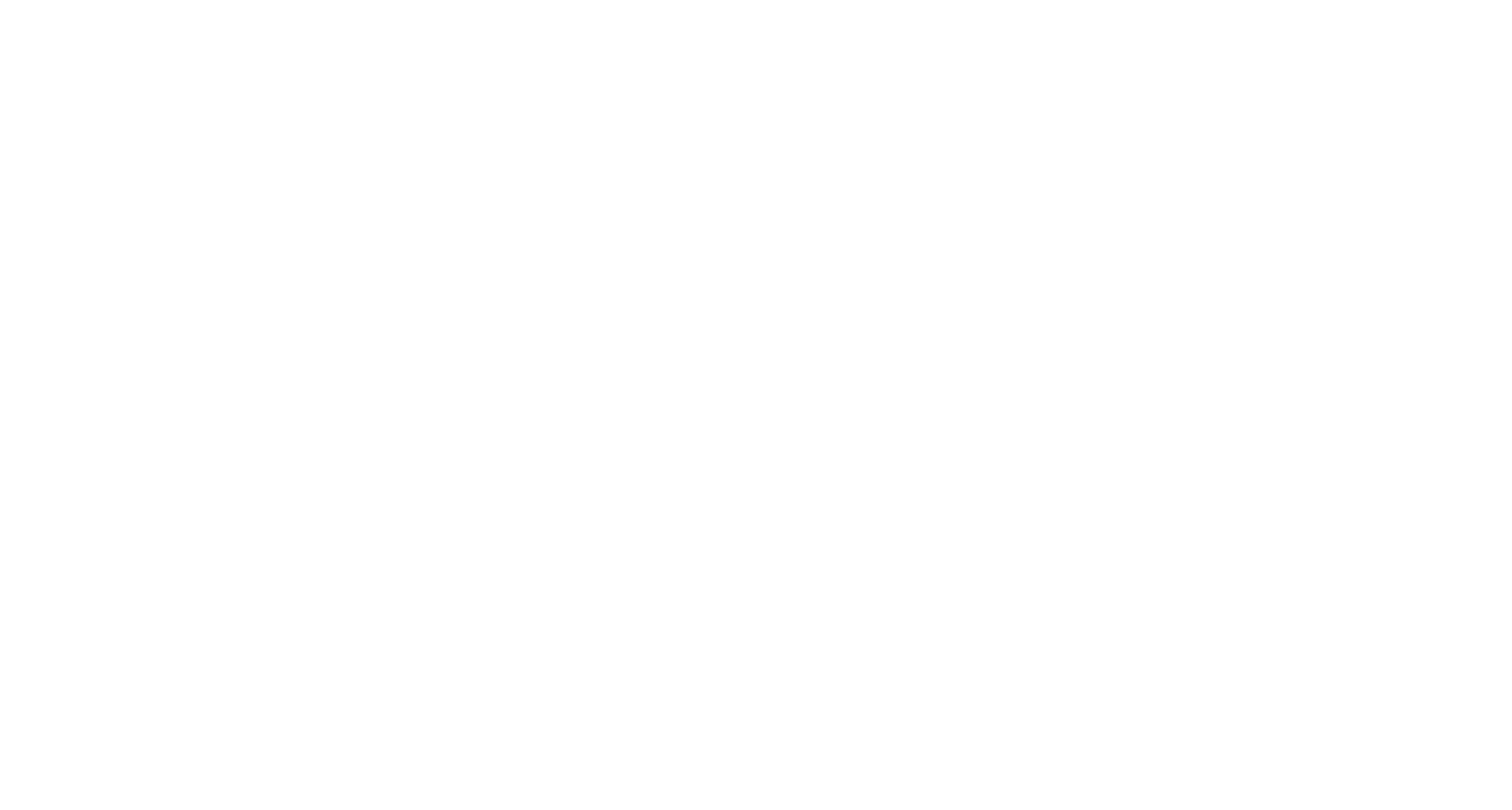
эпизод из книги «Эпилог»
Как свести воедино два бесконечных космоса — мужской и женский миры? Они существуют по разным законам и движутся в разных направлениях.
...Однажды ранним июньским утром, когда солнце только начинало растворять предрассветную дымку, нежным розовым светом расцвечивая облака, я шла по мягкой, прохладно щекочущей стопы траве вдали от городов и мыслей. Я будто плыла сквозь это восхитительное утро, напоенное тишиной и нежностью, подставляя лицо первым лучам солнечного света. И вдруг замерла в восхищении: на тонком кружеве паутины бриллиантовыми россыпями переливалась, сверкала мерцающая искрами света роса. Каждая капля была живой и трепетала, отражая пронизывающий ее солнечный свет. Я не могла оторвать взгляд от этого божественного совершенства, мгновения, которое вот-вот растает — стоит солнцу подняться выше. Роса принимала в себя солнечный свет и трепетала под его натиском. Свет всеобъемлющий, без которого жизнь невозможна. Явление мужского начала. Роса, как женщина, танцевала, вбирая в себя этот свет и возвращая его миру.
Тайна игры мужского и женского, притяжения и отталкивания, влечения и страха, соревнования, любви и страсти. Желания слиться, стать Единым. Я пыталась разгадать эту тайну тайн, у которой нет разгадки. Нашла ли я ответы на свои вопросы? И да, и нет. Те, что нашла, я изложила в этой книге. Те, что остались, ждут своего часа. И по сути дело не в ответах, а в вопросах, в самом поиске. Мне стало ясно главное: война разрушает, а любовь созидает. Женщина, не имеющая позволения любить, подобна художнику без холста, кистей и красок. Чтобы любить, нужна большая отвага, способность проявлять свои чувства. Что есть две противоположные силы — любовь и страх. И когда ты любишь, в тебе нет страха. Когда же приходит страх — боязнь потерять, не успеть, быть непризнанной, непонятой, неоцененной, — он опутывает, словно паутиной, и Любовь отправляется в камеру глубокой заморозки. Нет, умереть она не может, мой отец говорит — разлюбить невозможно. Если ты разлюбила — значит, не любила никогда. Свобода любить — это величайшая свобода, дарованная человеку. Свет любви будет озарять твой Путь.
...Однажды ранним июньским утром, когда солнце только начинало растворять предрассветную дымку, нежным розовым светом расцвечивая облака, я шла по мягкой, прохладно щекочущей стопы траве вдали от городов и мыслей. Я будто плыла сквозь это восхитительное утро, напоенное тишиной и нежностью, подставляя лицо первым лучам солнечного света. И вдруг замерла в восхищении: на тонком кружеве паутины бриллиантовыми россыпями переливалась, сверкала мерцающая искрами света роса. Каждая капля была живой и трепетала, отражая пронизывающий ее солнечный свет. Я не могла оторвать взгляд от этого божественного совершенства, мгновения, которое вот-вот растает — стоит солнцу подняться выше. Роса принимала в себя солнечный свет и трепетала под его натиском. Свет всеобъемлющий, без которого жизнь невозможна. Явление мужского начала. Роса, как женщина, танцевала, вбирая в себя этот свет и возвращая его миру.
Тайна игры мужского и женского, притяжения и отталкивания, влечения и страха, соревнования, любви и страсти. Желания слиться, стать Единым. Я пыталась разгадать эту тайну тайн, у которой нет разгадки. Нашла ли я ответы на свои вопросы? И да, и нет. Те, что нашла, я изложила в этой книге. Те, что остались, ждут своего часа. И по сути дело не в ответах, а в вопросах, в самом поиске. Мне стало ясно главное: война разрушает, а любовь созидает. Женщина, не имеющая позволения любить, подобна художнику без холста, кистей и красок. Чтобы любить, нужна большая отвага, способность проявлять свои чувства. Что есть две противоположные силы — любовь и страх. И когда ты любишь, в тебе нет страха. Когда же приходит страх — боязнь потерять, не успеть, быть непризнанной, непонятой, неоцененной, — он опутывает, словно паутиной, и Любовь отправляется в камеру глубокой заморозки. Нет, умереть она не может, мой отец говорит — разлюбить невозможно. Если ты разлюбила — значит, не любила никогда. Свобода любить — это величайшая свобода, дарованная человеку. Свет любви будет озарять твой Путь.
«В книге есть секрет, если ты будешь читать ее медленно она будет работать в твоей жизни. Магия, чудо, мистика — называй это как хочешь, немножко волшебства никогда не повредит. Когда ты прочтешь до конца, все события соединятся в единую связку ключей, открывающий смысл, тайну и радость бытия»